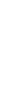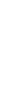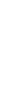
|
От
|
И.Т.
|

|

|
|
К
|
И.Т.
|

|

|
|
Дата
|
31.12.2016 00:41:46
|

|

|
|
Рубрики
|
Прочее;
|

|

|
Должников Юрий. Анонимная технократия. Вызов и ответ
По ссылке из письма:
http://zavtra.ru/blogs/anonimnaya_tehnokratiya_vizov_i_otvet
Анонимная технократия. Вызов и ответ
Опыт осмысления успехов Дональда Трампа в частности и т.н. "правых популистов" в целом не на злобу дня
Юрий Должников
026 172 Оценить статью:
Греческий миф о том, как Геркулес одолел Антея, сына Геи, оторвав того от земли и тем самым лишив подпитки, обыкновенно истолковывают так, что одна дуболомная сила без учета особенностей противника вряд ли обеспечит не то что победу, а хоть какой-то успех. Изучение поведения противника с тем, чтобы творчески продумывать свои действия, не полагаясь на зазубренные шаблоны, эффективные на макете,—необходимая часть что тактики, что стратегии. Но древние драгоценности культуры тем и отличаются от бижутерии современности, что создавались они не для того, чтобы их поносили, выкинули и забыли. Днем ли, при свете Луны или в отсветах костра—каждый раз они блестят по-особенному. Вот и Постновейшее Время подкинуло достаточно материала для иного истолкования классического мифа. Что, если бы Геркулесу в его походе за яблочками вечной молодости на пути встретился не атлет-здоровяк, а особь, которой в той же Спарте не было бы суждено дожить до зрелости, причем не из-за болезней? Что, если бы ему встретился малый, один вид которого наводил бы на мысль о варварском пришельце? И малый этот предложил бы с ним потягаться? Наверняка Геркулес рассмеялся бы, а затем сошелся с ним, предполагая, что справится одной левой, и обдумывая скорее не движения соперника, а свой дальнейший маршрут. И вот, подойдя на расстояние, пригодное то ли для удара, то ли для захвата, он получает в лицо плевок какой-то кислотой, его парализующей, а руки соперника, казавшиеся такими хилыми, обнаруживают способность затягиваться на его горле в узел, будто они—без костей. Что думает он, задыхаясь и закатывая глазки? Не то ли, что лучше бы против него в схватке стояли десять Антеев, а не этот засланец неведомых земель, существа которой во всем столь отличны от цивилизованных эллинов, что сама необходимость попытаться понять их представляется таким вздором, по сравнению с которым молчание Кратила, ограничивающегося указанием на предметы пальцем вместо того, чтобы говорит про них и тем более объяснять их суть, пусть и текучую, выглядит верхом мудрости? Вывод же из этого выдуманного приключения Геркулеса будет не в том, что другой не сможет понять другого, и не в том, что герой «сплоховал», а чудик мой—тот же Антей, только в кубическом гротеске. Вывод—в том, что даже в качестве противника предпочтительнее иметь нечто здоровое, пусть и очень сильное, а не нечто хилое, но при этом больное и нездоровое, которое и в схватке заразит тебя своим нездоровьем и немощью. Гений Пушкина прозревал эту истину о силе, которая перетекает от противника к противнику, циркулируя между ними, в схватке, зачастую смертельной, когда писал : «Русь обняла кичливого врага…»
Ныне рассечен мир на тех, кому мало одной глобальной земной плоскости, одного настоящего без прошлого и без будущего, и не тех, кто их травит—на ненавистников и гонителей Духа. Мир рассечен на традиционалистов и на тех, кто хотел бы уничтожения всего прошлого, груз которого их «напрягает» и которое, прежде чем отправится на помойку, должно быть осмеяно. Мир рассечен на реалистов самого разного толка—от женщины, дарующей еще и еще новую жизнь, до инока, во внешне бездейственной исихии переживающего Бога, и на тех, кто хочет овиртуалить человека, лишить его как реальности обыденной, производящей, так и реальности божественной, трансцендентной, причастных которой принято называть людьми идеалистического склада. Рассечение это готовилось давно, существовало уже тогда, когда главным конфликтом, определяющим жизнь мира, считался конфликт классовый. И тогда уже в классах-антагонистах хватало тех, кто при нынешнем рассечении мира стоят заодно, на одной стороне. То буржуа, которому стало в тягость малодоходное реальное производство, которого стала стеснять протестантская аскеза бескорыстного служения Богу через денежное накопление, который хотел бы возродить ростовщичество, как верх экономической деятельности, уже в мировом масштабе. И то наемный пролетарий труда как физического, так и умственного, который обнаружил в себе вовсе не тягу к усвоению всего накопленного человечеством, ставшего ему вполне доступным, не жажду творческой переработки всего накопленного ради высшей культуры, завещанной ему классиками, а одно желание рвануть в будущее, где не будет ни Отечества, ни связей с культурой и историей этого Отечества, поддержание и обновление которых требуют постоянных душевных упражнений. И тот и другой получили соответствующие идеологии—от экономических ультралибералов и «новых левых» соответственно. И если ультралиберализм в экономике—это разрыв с либерализмом классическим, возврат к донаучным и допросвещенческим алхимическими практикам «делания» золота из ничего в форме монетаризма, который именно что современная алхимия, делающая деньги из ничего, то вопрос о «новых левых» сложнее. Их обвиняют в измене делу социальной справедливости, но разве они изменили себе? По-моему, нет. «Левые» долго защищали правду-справедливость не потому, что справедливость—часть истины, не потому, что им дорога правда-истина, в которую входит и правда-справедливость. Длительный период защиты социальной справедливости был вызван тактикой борьбы за утверждение своей правды-истины, которая стояла на аксиоме отрицания всей предшествующей истории как зла, как организованного цивилизационного насилия над человеком, закабаляющего его свободное естество ради долгосрочных цивилизационных целей, воплощаемых конкретными суверенными государствами. И когда стало очевидно, что социальная справедливость обуржуазивает, укореняет людей в почву своего Отечества, укрепляет их в культуре и истории этого Отечества, «левые» перешли к другой тактике, более эффективной в деле ведущейся ими борьбы. Они обратились к тому безликому, без-корневому (по сути пролетарскому, ибо пролетарий—человек без корней), животно-инстинктивному началу, которое имеется в каждом человеке, но подавляется в нем культурой и традициями. Начало это универсально, как универсален хаос, и наиболее выражено как раз в меньшинствах, которых угнетают господствующая этика, эстетика, тип общественных отношений, приемлемая половая норма, наконец. На них и сделана ставка как на прогрессивный класс, которому противостоит реакционное большинство.
Идеология этого класса-мессии, соединившись с тотальным экономизмом ультралиберализма последнего полувека, породила фанатичное тоталитарное учение неолиберализма, в котором частная собственность, как абсолют, и самосознание индивидуума, как носителя абсолютно свободной во всем телесности, настолько слиты, что говорить по-старинке о базисе и надстройке попросту нелепо. Те, кто думают победить постмодерн методами модерна, причем методами, которые на поверхности и, что называется, «от жизни», обречены на поражение. Реакция как реставрация всегда бесплодна. Постмодерн нельзя уничтожить огнем из прошлого, его можно только преодолеть будущим, в которое, разумеется, войдет и прошлое. Но подмена будущего прошлым недопустима.
Парадокс в том, что в битве с овиртуаливанием человека и виртуализацией реальности успехи демонстрируют именно силы с аргументами «от жизни» и «от сохи». Кто встал против коалиции глобальных ростовщиков и телесно раскрепощенных индивидуумов, которые, если прибегнуть к термину идеалистическому, суть твари?—Буржуа, имеющий доход с реального производства в реальной же местности своего суверенного государства, и наемный работник, у которого есть свое Отечество, есть культура и история этого Отечества, есть планы, пусть и самые приземленные, на будущее в этом Отечестве, и от чего он не намерен отказываться ради сомнительной перспективы стать бесполым и уйти в благую смерть с помощью врачей, если жизнь «не удалась». О чем говорят герольды коалиции постмодерна?—О свободе денежной игры в любой точке земного шара и о еще большем растворении человеческого в тварном, которое на поверку оказалось слишком человеческим, о чем и предупреждал, засвидетельствовав смерть Бога, непонятый трагический немец. О чем говорят оторванные от реальных дел и наспех снаряженные бойцы сопротивления?—О том, что имеет отношение к столу—о реальном производстве, и о том, что обеспечивает относительное душевное спокойствие в мире, на глазах лишающемся ума,—о подрываемых традициях. Когда цветок-паразит высасывает все соки из дерева (Rafflesia arnoldi), тому не до красоты своих зеленых листочков—сохранить бы ствол от высыхания. Точно так же в нашу эпоху слишком обобщенные размышления многим кажутся подозрительно виртуальными, кажутся заумью «ни о чем». Больше века назад в сборнике работ русских философов-идеалистов (и я имею скромную мечту о хотя бы подобии такого сборника в наши дни) было заявлено о необходимости замены фельетонного осмысления социальных проблем осмыслением философским. Авторам, конечно, и в голову не могло прийти, что настанут времена, когда и фельетонные осмысления станут небывалой роскошью, когда «осмысление» будет подобно писанине на заборах и будет называться твитописью, из которой можно узнать, что «они сдурели» и что «они молодцы».
Вот я отмахал уже несколько страниц, а до сих пор не упомянул героев события, которое и дало мне повод для написания этой моей статьи. Повод—выборы президента в США, на которых соперничали технический кандидат от власти технократов Хиллари Клинтон и самодельный кандидат «от жизни» Дональд Трамп. Последний, как известно, победил, и за ту неделю, что прошла со дня его победы, я прочел и услышал множество комментариев, которые, если отжать из них велеречивость, сводятся к той амбивалентной твитописи, пример которой я уже привел. Те, кого больше волнуют свободы «виртуальные», в общем-то безразличные для живущих реальной жизнью (в том числе реалиями духовными, о чем не устану повторять до полной реабилитации идеализма как мировоззрения, и без того слишком запоздавшей), естественно недоволны. Те якобы уважительные причины, которыми они объясняют свое недовольство, попросту смехотворны: возмущающиеся планами строгого контроля над миграционными потоками сами никогда не пустят к себе в дом беспризорника, а возмущающиеся высказываниями триумфатора о женском поле сами наверняка не раз обзывали многодетную «клушу» дурой, не про которую прелести гендерного равноправия. Понятны взгляды и симпатизирующих Трампу: он из тех, кого у нас можно записать в «хозяйственники», а такие люди традиционно вызывают уважение. Что до будущих отношений между нашими странами, то здесь я ограничусь тем же выводом, что сделал из выдуманного приключения Геркулеса: даже в качестве противника лучше (да и приятнее) иметь нечто здоровое, а не нечто, озабоченное «виртуальными» правами известных меньшинств, которых и так, при условии соблюдения ими элементарных приличий, никто не притесняет, а также военной помощью «несчастным» галичанам, которые со своей русофобско-униатской идеологией захватили власть в одном из осколков исторической России и учат сбитых с толку людей «виртуальной» истории, в которой те—пуп Европы, а чуть восточнее—Орда. Именно таково мое личное отношение к г-ну Трампу: он—здоровая сила, которая в одной из немногих реально суверенных стран встала поперек анонимной технократии.
В свое время весь капитал Барака Обамы состоял в том, что он не WASP. В чем состоял капитал г-жи Клинтон? Уж всяко не в том, что она—женщина. Подобный капитал можно было бы сравнить с партийным билетом т. Черненко, каковой имели и все остальные члены Президиума, а также—все миллионы просто членов Партии. Но это не спасло систему от краха, предопределенного как износом мотора, так и общей разболтанностью механизма, и это не говоря о том, что к моменту краха истершиеся приводные ремни порвались, а обратная связь в системе и вовсе была отключена за ненадобностью. Последнее видится определяющим. Если отшвырнуть такое истрепанное слово, как демократия, которое обозначает совсем не то, что про нее, демократию, думают, и положить мерой взаимодействия людей и власти подотчетность власти, ее способность реагировать на то, что называется русским словом наказ, то следует признать, что в странах, ставившихся нам в пример еще со времен царей, избранные в представительные органы в полном соответствии со всеми выборными процедурами давно превратились в ширму, за которой что-то кумекают технократы из Брюсселя. И их сомнительным решениям подчиняются целые суверенные (?) страны, чьи парламенты, по сути, превратились в муниципальные органы власти, ведающие строительством дорог, озеленением улиц и тому подобными прекрасными для приватного человека вещами. Обозначает ли это полный слом механизма обратной связи, чреватый крахом системы наподобие советского?
Чудесно, если бы всё было так просто (без обид для коммунистов—это просто аналогия). Некогда полнокровная идеология, превратившаяся в иссохшего старика, в необратимо разрушающемся мозгу которого самым диким образом смешались воспоминания о подвигах молодости, мечты о будущем внуков, которое он за них продумал уже тогда, когда младшая дочь понесла (старшая своих воспитывает сама и, конечно, неправильно), а также реальность вонючей утки и привычной комнаты, где втихаря, только чтобы он не заметил, переставили стол. За столом, подвинутым поближе к окну, работает присматривающий за папашей сын, и тот, едва очнувшись от обезболивающего сна, зовет его, а потом, после необходимых уколов и обтираний, отпускает единственно затем, чтобы через пять минут сообщить, что сын—неблагодарная свинья, не ценящая того, что благодаря нему, доброму папаше, он может себе позволить не торчать с утра до ночи в офисе, корпя над сомнительными проектами шефа с нездоровой гигантоманией. Еще через пять минут он сообщит, что скоро поправится и уж тогда, конечно, научит жизни внучат, которые (и в этом не может быть сомнений) оценят все великодушие и всю заботу деда, а, повзрослев, забудут своего бездарного отца, который помрет в полном одиночестве. Наконец, еще через пять минут он, кое-как приподнявшись над подушками, изречет: «Все работаешь на этих болванов? Больше никуда не берут? Я не удивлен». Таковы мучительные корчи либеральной идеологии, через немощное тело которой говорит и действует неолиберализм. Он—воплощение той хаотической свободы, раскрепощение которой пробудило к мстительному существованию призраки свобод бесовских, прежде запертых в крепостных казематах культуры и традиций, в замке которых свобода только и может жить без того, чтобы превратится в упыря.
—Зачем рвать жилы на «стройках века», когда есть сфера обслуживания и, для особо креативных, интеллектуальное производство облегчающих жизнь мобильных приложений (новинка—анализатор частоты мочеиспускания в зависимости от качества и количества выпитого в ночном клубе)?
—Зачем традиционное репрессивное воспитание, полное навязываемых стереотипов о правильном и неправильном, естественном и ненормальном, прилично-моральном и неприлично-постыдном? Всё, что не информация про палки и дырки (включая искусственно сформированные)—насилие рабов над свободным телом.
—Почему некоторые народы, не смотря на все усилия прогрессивных наставников (включая наставников из этого же народа—единственных достойных его представителей) упорствуют и продолжают иметь Отечество?—Потому что они биологически неполноценны!
Последнее, в приличном обществе не произносимое, но у особо ретивых неофитов все равно проскакивающее—главная причина того, почему в ответах на гласы вопиющих о том, что же все-таки творится с нашим миром, так часто вымучиваются, за неимением более конкретного и наглядного, апокалиптические откровения. Идет борьба Добра и Зла и верных с неверными—таков фундаментализм современной схватки, и не в последнюю, а скорее уж в первую очередь потому, что цветок-паразит насосал столько, что все листья сброшены, а ткани дерева огрубели, так что вся надежда—на все еще плодородную почву, дерево питающую. Но способно ли будет пострадавшее дерево полноценно усваивать соки?
Ныне рассечен мир, и те, кого называют большинством, по понятному биологическому инстинкту держатся в стороне. Власть технократического меньшинства представляется им одной из форм деспотий, хорошо известных по истории,—вершина иерархической пирамиды, испускающая в толщу низов свои импульсы, которые до́лжно поглощать, не смея вступать с вершиной во взаимодействие. Здравый смысл, за непрочной броней которого спряталось большинство, подсказывает, что от нежелательных и опасных импульсов можно укрыться, пусть это и сложно в эпоху информационной тоталитарности. Но невозможно жить, а не существовать, слепоглухонемым, а органы восприятия нуждаются в информации. Именно поэтому метод господства анонимной технократии—виртуализация, а главное в этом методе—уравнивание информаций. Я специально ставлю слово информация в plural, ибо для лучшего ослепления и оглушения информация не просто уравнивается по вертикали, но дополнительно дробится в горизонтали. Но главное, конечно, уравнивание: все значимое сводится к чиху, а сам чих, чихом и оставаясь, становится так же важен, как и значимое. Чих—это неполадка в организме, симптом, и значим он может быть только этим—сигналом о неполадке истинно значимого. Когда мужчины и женщины Парижа выходят на улицы в защиту семьи—это шельмуется как проявление ими внутренней несвободы, как неприятие ими непохожести на них, и, собственно, только ради этого шельмования манифестанты и попадают в информационные сводки в качестве отрицательного факта современности. Но когда люди, живущие вместе противоестественной связью, выдвигают требование пользоваться плодами связи естественной, беря те из казенных, и уже поэтому репрессивных воспитательных учреждений с тем, чтобы лепить из них гомункулов, это попадает в информационные сводки со знаком абсолютного плюса как нечто, на что следует равняться в своем поведении. Так чих—симптом болезни, становится важнее самой болезни, а уж о том, чтобы больной не лечился, а, наоборот, культивировал свой чих, позаботятся те, кто старательно овиртуаливают реальность и отвиртуаливают сознание человека. Ярость непокорных фундаментальна потому, что они чувствуют: анонимная технократия есть тирания над большинством меньшинства, что находится вне управляемой им системы. От этого—немыслимые ни в одной классической деспотии эксперименты над большинством—сколь безжалостные, столь и безответственные, и нарочитая беззаботность их подобна шалопайскому отрыванию голов у кукол.
Но не в том анонимность, что в Брюсселе все на одно лицо, а губы их, механически двигаясь, монотонным голосом проповедника перечисляют заповеди уверовавших в общеценности. И не в том анонимность, что нет разницы, кто в схватке с Трампом представлял бы американскую систему—супруга бывшего президента или какой-нибудь бравый генерал с Вьетнамом за плечами. Анонимность в том, что меньшинство, этот демиург-неудачник и горе-экспериментатор, само безлико. И уклоняющемуся до поры до времени от рассекающего меча большинство следует знать, что на кону—не рабство и свобода внешнии, а участь и рок рабства внутреннего (с компенсацией в виде аборта, оплаченного самим виновником-насильником)—перспектива тотального освобождения телесной тварной природы и добровольно-навязанного самоубоя Духа. Сколько скепсиса было по отношению к человеку массы, этому продукту индустриальной эпохи! Эпоха постиндустриальная, или «виртуальная», что в данном случае одно и то же, не нуждается более в человеке массы, да и в самой массе она нуждается вряд ли. Но страшным заблуждением было бы думать, что эпоха эта возвращает права личности, возрождает права индивида классического либерализма, только дай ей время и возможность разделаться с тоталитарными пережитками. Повелевающие массой были плоть от ее плоти, они чувствовали ее изнутри, для них она не была чем-то внешним. Но что, как не внешнее, пусть и жизненно необходимое для существования, представляют собой пчелы или муравьи по отношению к матке? «Виртуальному», или постиндустриальному—нужен рой. Битва уже давно не идет за сохранение личности—единственной в своем роде и по-особому преломляющей через себя свет мира. Вопрос о ней стоял для человека массы, имеющего силы покинуть массу и перейти в состояние заново-творения личности. Битва теперь идет за то, что у стандартного человека массы все-таки сохранялось—за лицо. Потому говорят о борьбе Добра и Зла, потому поступь неолиберализма пробуждает в мало-мальски чутких и отзывчивых инфернальный страх и священный трепет, что вот-вот падет то последнее, что отделяет человека от твари, то последнее, что несет в себе Божественную искру творца,—его лицо. Ибо в лице—залог возможности развития до личности, в меру сил своих творчески облагораживающей мир, а не ломающей его, дающей, а не потребляющей. Личность, как лицо в своем непрерывном развитии, не нуждается в овиртуаливании мира как сомнительной услуге извне и тем более не нуждается в отвиртуаливании (со стороны, опять же) для того, чтобы заполнить невыносимую пустоту выеденной сердцевины. Она сама творит, сама мастерит маски, надевает их и снимает, и, главное, предстает обнаженной душой перед Богом. Но когда лицо принимает как данность «виртуальное», когда лицо примеряет подсунутую маску не как эпизод игры, которую всегда можно прервать, в крайнем случае нарушив правила, а как необходимый аксессуар, без которого вход в игру жизни заказан, то это—кома лица, из которой только два выхода. Или оно соберется и отмобилизует все свои усыпленные, но еще живые силы с тем, чтобы начать пробуждаться хотя бы в человека массы, относительно автономного, или же оно продолжит плоскостное существование, подпитываемое внешней аппаратурой. Разницу между маской и не-маской (естественный взгляд окрест, обычно—через вуаль) понимают как лицо, так и личность, только лицо пользуется масками готовыми, а личность—мастерит их сама. Но разница между маской и не-маской совершенно неразличима лицом отвиртуаленным, которое не снимает маску и после спектакля самодеятельности, идя в ней по вполне реальным улицам домой. Маска заменяет лицо, как в сатанинском кошмаре, и это и есть та главная причина, по которой неолиберализм со своими общеценностями воспринимается как выходец из запредельных потусторонних сфер. Все его «свободы»—как посмертные маски убитых реальных свобод, как смастеренные с пропавших без вести до ужаса натуральные куклы, которых оживили и послали «на радость» безутешным родственникам. И те, даже обнаружив кошмарный обман, упорно продолжают верить в иллюзию, а вскоре и сама иллюзия вытесняет все, что за пределами стен дома. Так абсолютная свобода оказывается самой страшной тюрьмой.
По всей видимости, в ближайшие годы следует ожидать решительное наступление «реалистов» и отступление «виртуализаторов», которые в панике даже не успеют применить тактику «выжженной земли». Прорывы фронта последуют в самых разных странах, где пока что местные тори и виги разыгрывают договорной бой без правил на потеху неолиберальной VIP-ложе, чьи сибариты порядком расслабились от успехов нескольких последних десятилетий. Но это наступление не будет подлинным преодолением постмодерна, это наступление будет в значительной мере реакцией реставрации, а потому культуре оно обойдется очень дорого. В свое время постмодерн прервал процесс усложнения изысканности и разноцветия культуры в ее естественной среде—саду под открытым небом, и заменил его процессом насильственной пересадки всего, что понравилось, в один огромный парник. И все это делалось без соблюдения температурного режима, без учета необходимости регулировать влажность, без проветривания, да еще в парник запихнули культуры технические и помидоры до кучи. Неудивительно, что эта «оранжерея» походила скорее на павильон для съемок фильма про растений-антропофагов, чем на место, где можно неспешно прогуливаться, наслаждаясь красотой и пополняя свои знания. В постмодерне есть своя ограниченная правда, и о ней надо говорить для того, чтобы преодолевать его, а не отталкиваться от него, пятясь при этом назад. Но учитывая обстановку, учитывая то, что главное—не допустить утраты людьми лица, вновь сорганизовать их хотя бы в солидарную массу, не позволить им рассыпаться в рой, единство которого—результат исключительно внешних импульсов и внутренних инстинктов, спокойный разговор об ограниченной правде постмодерна вряд ли возможен. Современные «творцы искусства», живущие по заветам подпольного человека с непременно вовремя поданным чаем и ругающие обывателя, который «варвар» и вообще «не на высоте», вызывают одно чувство—брезгливость. Когда-то поэт далеко не первого калибра Брюсов приветствовал грядущих гуннов, которые «его уничтожат», и в этом приветствии силам, идущим обновить мир, был безусловный профетизм искусства. То упрощение культуры, которое неизбежно принесли с собой гунны, в самом себе несло потенциал последующего буйного цветения, а расцвет и увядание культур, их новый расцвет и новое увядание—это и есть вся жизнь цивилизаций и народов, есть реализм высшего плана, есть реализм на своей идеальной высоте. От нынешней культуры без верха и без низа, в которой возможна лишь мнимая «высота», поднять на которую можно, лишь более-менее опустив духовно, к новой истинной высоте и пойдет культура, спасаемая от виртуализующей силы господствующих меньшинств. Для большего очищения и прояснения ей придется жестко самоограничиться суровыми проверенными традициями и сжаться до предела неделимого культурного ядра—своего у каждого народа. Некогда марксистское учение давало универсальное средство борьбы с капитализмом, но и то получало свою специфическую окраску в каждой отдельной стране. Это третировалось как «архаика», как «пережитки». Ныне именно «архаика» и «пережитки» являются броней той цельности, которую непрерывно атакуют технократические общеценности, предлагающие человеку не труд по созиданию собственной личности, а растворение в тварной природе, где нет реальностей высшего и низшего порядка, а есть одна виртуальная реальность физических тел. «Архаика» и «пережитки» являются, такими образом, броней как ядра народа—его культуры, так и броней ядра человека—его лица. Первой грозит расчленение живого организма с последующей пересборкой в техническое подобие жизни—стандартизированное для обслуживания проплатившего заказ, второму—безликая анонимность.
В эпохи тяжелых кризисов людям естественно отвергать излишнюю усложненность, естественно возвращаться к «богам азбучных истин». Но нужно помнить, что боги эти—скорее идолы, и годны они лишь на то, чтобы пережить ночь, наступившую после сумерек старых богов, в которых те и погибли. Шарлатанство продажных жрецов—не повод отрицать богословие и тем более становиться атеистом. То, что от «виртуального» мычания переходят к фельетонному осмыслению проблем, стоящих перед людьми и народами,—уже хорошо. Дерево не засохнет и рано или поздно вновь зазеленеет, если почву вокруг него взрыхлить и полить, тем самым поспособствовав лучшему усвоению деревом соков из почвы культурных традиций. Дональд Трамп в Свете Новом, Марин Ле Пен и компания в Свете Старом—здоровые силы, и они это делают. Изнеженным разрушителям культуры, которые даже столь любезным им меньшинствам толковую оду сочинить не умеют, пора указать на их маргинальное место. Но нельзя самим становиться маргиналами Духа, считающими верхом мысли фельетон.
Мир рассечен, и цельность ему может вернуть только осмысление философское.